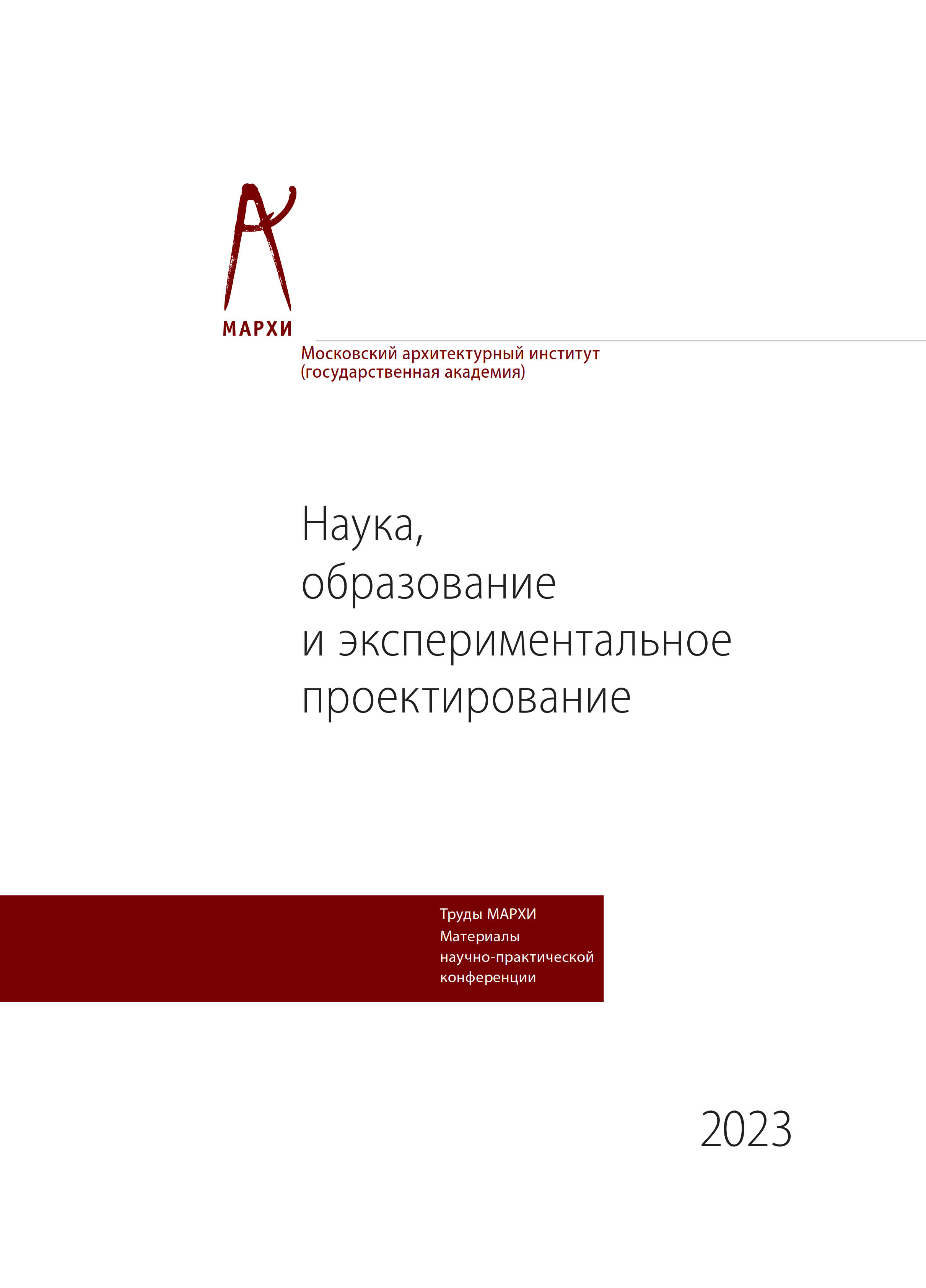from 01.01.2018 until now Moscow Institute of Architecture (state academy) (Restoration and reconstruction in architecture, student)
from 01.01.2018 to 01.01.2023
Russian Library and Bibliographic Classification 85
Modern principles of restoration techniques to formulate the concept of preserving ruined cultural heritage sites are considered regarding the example of Bryn's manor-factory.
restoration, cultural heritage, cultural monuments, UNESCO recommendations, principles of preservation and development of heritage
Принципы методики реставрации определяются границами правды памятника. На выбор концепции сохранения влияет множество факторов – от степени сохранности памятника и его технических возможностей до решения об эскпозиционировании культурного наследия. Например, реставрация руин усадьбы будет разительно отличаться по восприятию: руины в консервации как парковый объем, приспособленный к новому использованию или же восстановленный объем.
Усадьба-завод в Брыни была построена Никитой Никитичем Демидовым как жилая с корпусами парусно-полотняной фабрики в 1726–1750 гг. [2] Известно, что господские покои были расположены анфиладами на втором этаже и перекрыты сомкнутыми сводами, под ними были складские помещения. По бокам примыкали заводская и фабричная конторы, людские покои и парусно-полотняная фабрика [1]. Корпуса фабрики XIX века утрачены. От единого здания усадьбы XVIII в. сохранилось три фрагмента, в каждом уцелели сомкнутые своды (рис. 1, 2).
Из-за отсутствия чертежей усадьбы были произведены обмеры руин. На рисунке 3 (а) представлена графическая схема по фото из малого помещения на внутреннюю стену (западный корпус), а на рисунке 3(б) – обмер. Были обнаружены: пологие сомкнутые своды с распалубками без "щёчек", нерегулярная верстовая кладка (прием использовался до сер. XVIII в.), перемычка проема 2-го этажа в полкирпича (прием первой четверти XVIII в.), внутренние откосы проема выложены "голубцом" (прием использовался с сер. XVIII в.), перемычка верхнего (3-го этажа) дверного проема лучковая, выполнена в кирпич. Выявленные на натурных исследованиях строительные приемы относятся как к XVII, так и к XVIII в., что подтверждает датировку, установленную по архивным данным.
Возможности исследования были ограничены не только временем и объемами, но и состоянием усадьбы: руины находятся под культурным слоем, который мешает составить полное представление об усадьбе. Были составлены бумажные кроки и выполнены обмерные чертежи в электронном виде. Более подробно изучен западный корпус. Традиционный метод обмеров позволил лучше изучить памятник.
Консервация руин усадьбы может приостановить разрушение, но оставлять их без изменения окружения нельзя: это все та же заброшенность, которая приведет к новым утратам. Наиболее уместна в данном случае археологическая реставрация, при которой будут предприняты меры защиты руин от антропогенной нагрузки и произведены мероприятия, обеспечивающие разъяснение посетителям о результатах исследования этого объекта. Археологическая реставрация неизбежно сталкивается с проблемой подходящего оформления.
Вокруг подобных объектов устраивают парки, встраивают их в среду, делают акцентом территории, включают в туристические маршруты (как например, руины терм Каракаллы представляют собой ландшафтные глыбы, встроенные в парковую зону). Плюс такой концепции сохранения – фиксация памятника в наиболее правдивом виде. Однако такая максимальная точность и достоверность фиксации (казалось бы, почти идеал для руин) не для всех памятников подходит. Если мы говорим о найденных фундаментах древней базилики (например, в таком заповеднике, как Херсонес Таврический), то можно быть уверенным, что руины будут в сохранности и в подобающем окружении по крайней мере столько, сколько будет стоять сам музей-заповедник. Или, например, руины в Италии: они так встроены в город, что привести их в запустение сейчас может только запустение самого города.
Что же касается усадьбы Н. Н. Демидова в Брыни – это село находится в полутора часах езды от областного центра, и говорить о какой-то среде, которая поможет сохраниться этому памятнику, не приходится.
Второй из рассмотренных выше вариантов – создание учреждения, заповедника, задачей которого и является сохранение и поддержание памятника в должном виде. Однако успех этой идеи будет означать превращение не только усадьбы, но и села в туристическое место, что может привести к утрате самобытности. Село из спокойного места становится проезжей частью, и кажется, что руина больше была похожа на себя в унылом запустении, чем в окружении даже не толпы, а того, что она привносит. Тем более изменения затронут жизнь местных жителей, о чем нужно подумать в проекте. А неуспех этой идеи ненадолго отодвинет новое запустение.
При прекрасной идее археологической реставрации, трудное регулирование окружения, сложное содержание и зыбкие возможности его поддержания сводят на нет эффект от хорошей консервации. Поэтому такой вид сохранения подходит не всем объектам, а преимущественно тем, что уже находятся на траектории туристических маршрутов или в развитой инфраструктуре.
Фрагментарная (аналитическая) реставрация с приспособлением под современное использование могла бы сделать памятник вновь живым. При минимизации вмешательства в материал памятника, научной доказательности необходимого вмешательства, нарочитой современности докомпоновок возможно получить поистине правдивый, но при этом действующий объект.
Если предыдущая концепция не вызывала вопросов в самом сохранении, то эта концепция неоднозначна. Спорить можно буквально о каждом шаге: от глобального решения о функции приспособлении под современное использование до мельчайших деталей в материалах современной докомпоновки. Такой вариант сохранения – трудный путь, который требует тщательной проработки. Высока вероятность ошибки и столько же высока ее цена. Но в случае качественной продуманной реставрации здание, являющееся символом деятельности и изобретательности, процветания мануфактур Петровского времени и дореволюционной фабрики, вновь станет работать и поистине оживет. И в приспособлении не под музей, а под фабрику или мастерскую. При правильном проекте приспособления это здание не только не потеряет дух места, но и приобретет вместо гордой сырости сводов, хранящих память, свет ламп в своих окнах, повествующий о том, что было причиной возникновения этого памятника. При таком развитии незначительный поток туристов не сможет столько же навредить, как в предыдущем варианте. Здесь скорее будет поток специалистов, из-за чего инфраструктура села тоже начнет развиваться. Но все-таки в этом случае развитие станет менее хаотичным и будет иметь другой контингент, что не может не сказаться в лучшую сторону на качестве возникающих архитектурных объемов.
Целостная реставрация действительно могла бы вернуть жителям села достопримечательность, которую они помнят еще с детства. Однако этот метод применяется к памятникам, имеющим национальное значение, достаточную доказательную базу и высокий процент сохранности подлинного материала памятника.
Как бы ни было соблазнительно обретение экспоната усадьбы Петровской эпохи и удовлетворение желания жителей, которые могут представить себе только такой вариант развития событий, для профессионального сообщества реставраторов это не тот вариант, который следует применять по крайней мере к руинированным объектам. При таком варианте последует колоссальная потеря подлинности ввиду большого количества докомпоновок. Может, здесь и возникнет этот дух места, который приходит вслед за расставленной музейной экспозицией, но это будет бутафорией, хоть она и имеет подлинность в своем начале. Этот дух именно возникнет, новый, а тот, что есть сейчас, замолчит под слоем штукатурки, пока вновь не проведут раскрытие.
Один из выводов, который можно сделать: несмотря на то, что существует в целом проблема формирования концепции именно руинированных объектов, выбор концепции индивидуален в каждом случае. Что хорошо для одних руин, плохо для других. И хоть выбор происходит примерно из одних из тех же вариантов, применительно к разным руинам эффект будет значительно отличаться. Важно подчеркнуть, что это не только влияет на восприятие объекта в целом, но и на возможность его существования в принципе. Для одних руин консервация – не спасение от новых потерь, а для других – это единственных возможный вариант.
Остальные выводы – более узкие и касаются самой усадьбы. Для проведения целостной реставрации недостаточно достоверных материалов. Археологическая реставрация и фрагментарная с приспособлением спорят между собой. У каждой есть несравненные плюсы перед другой: у археологической – фиксация памятника в наиболее правдивом виде, у фрагментарной – превращение объекта в живой памятник. Однако есть и минусы: у первой – возможное повторное запустение и последующие за ним утраты и повреждение памятника, у второй – утраты подлинного при новом строительстве.
Поскольку объект находится не в городе, где нет постоянных зрителей, где влияние на жителей не такое большое и не в ландшафтной среде, а в селе, то влияние от проекта сохранения будет непосредственно сказываться на жителях. Думается, важно защитить и сохранить не только объекты культурного наследия, но и уклад жизни села, а также, может быть, подтолкнуть местных жителей содержать свои дома подобающим образом с точки зрения сохранения исторической среды объектов культурного наследия. Именно из-за того, как проект сохранения памятника повлияет на село в целом, нам кажется предпочтительным в случае с усадьбой Демидова выбор фрагментарной реставрации с приспособлением.
В дипломном проекте для приспособления руин под новое использование автором предложена образовательная функция. Местные жители заботятся о сохранении истории своего края. В школе действует художественная выставка, посвященная историческим событиям этого места, а благодаря трудам Анатолия Сергеевича Коршунова в селе откроется музей. Надеемся, эта культурная деятельность поспособствует появлению специфического учебного заведения, связанного с изучением традиций этого места.
1. Gorbunov, V. G. Brynskiy proizvodstvennyy kompleks N. N. Demidova / V. G. Gorbunov, L. N. Bobyleva // RGADA. F. Berg-kollegii. Kn. 2618. L. 266-274.
2. L'vov, A. I. Vesi brynskih lesov / A. I. L'vov. - Kaluga, 2019.