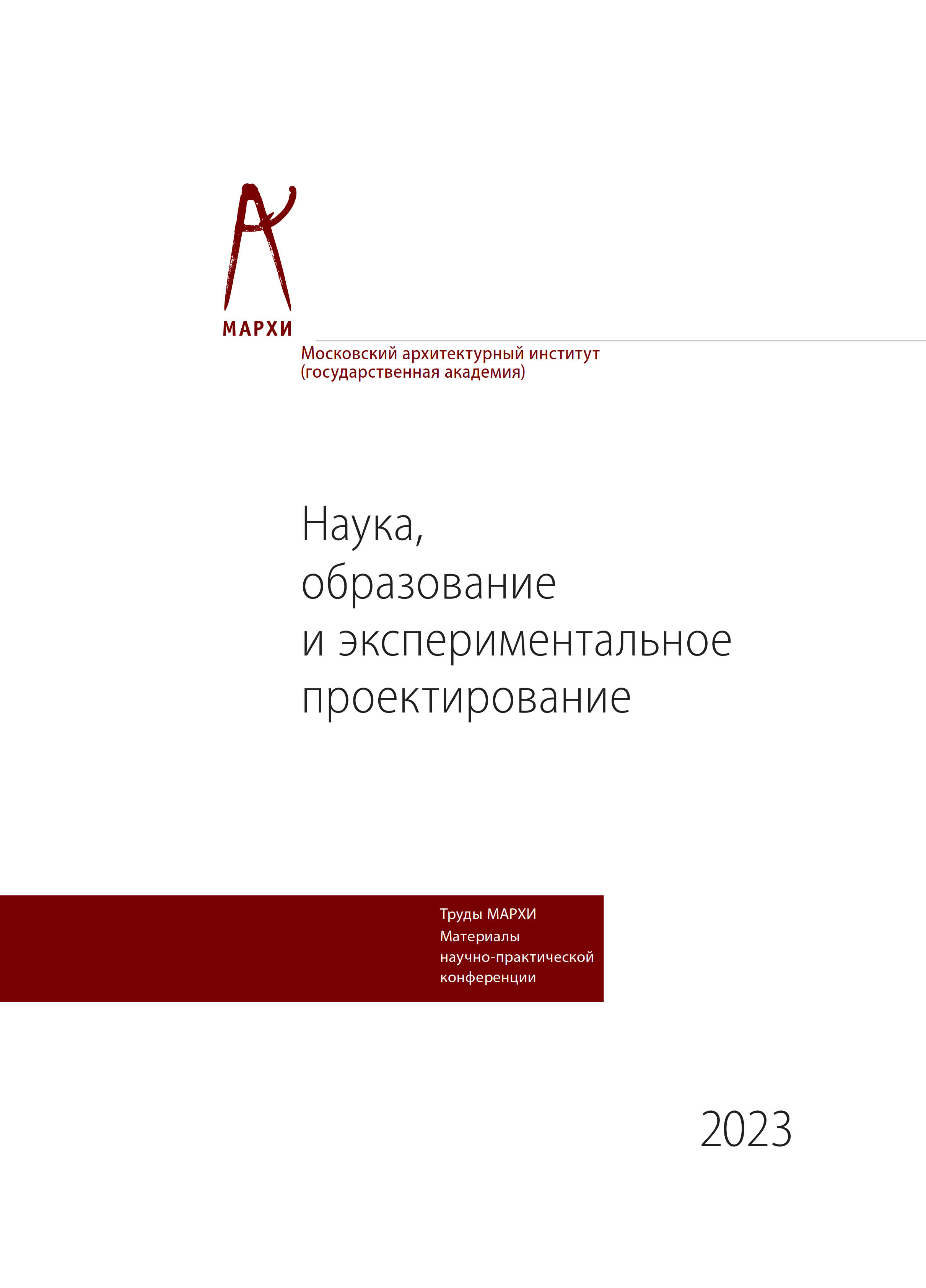employee from 01.01.2020 until now
Moscow Architectural Institute (Departmenr of Russian Language Stidies, i.o. zaveduyuschego)
employee from 01.01.2023 to 01.01.2023
Moscow, Moscow, Russian Federation
Russian Library and Bibliographic Classification 85
There is a very strong postmodern basement in the modern architectural discourse. First of all, it affects the terminology. This study shows that this is not so much a postmodern influence as an original state of architecture, which can be called syncretic.
postmodernism, term, terminoid, interdisciplinary, synthesis, tao, syncretics
О так называемом постмодернистско-деконструктивистско-постструктуралистском комплексе в современном, преимущественно гуманитарном, знании сказано и написано очень много. Здесь выработалась разветвленная и очень противоречивая терминология, которую, вместе с тем, нельзя и назвать терминологией в строгом смысле этого слова. Скорее, речь идет о весьма расплывчатых многозначных терминоидах [1, с.739] и даже, совсем уже «творчески» выражаясь, «терминафорах» («термин» + «метафора»).
В этом смысле постмодернистский дискурс сам является одновременно теми самыми столь раскрученными симулякром и ризомой, которые так активно используются учеными. Очень многие научные и околонаучные тексты живут в режиме такой вот «имитационной грибницы».
Сразу отметим: это и ни «хорошо» и ни «плохо», если, конечно, мы не имеем дело с откровенной халтурой. Это данность, вызванная многими причинами, прежде всего – своего рода «бумом междисциплинарности», «диктатурой комплексного подхода». Кроме того, своего рода идеей фикс науки в XX–XXI вв. был поиск синтеза точного знания (т.н. сциентизм) и знания гуманитарного (т.н. антропологизм). Как сейчас говорят, «в сухом остатке» этого напряженного поиска оказалась масса якобы «точных» метаязыков, описывающих «неточную» антропологическую материю. «Точные» языки бесконечно усложнялись, приобретали сотни и сотни чисто цеховых, герметических кодов, отталкивались, переплетались. Результат – тот самый постмодернистский дискурс, о котором идет речь.
Автор данной статьи, будучи по образованию лингвистом, долгое время работал в сфере культурологии и регионоведения. В дальнейшем «судьба свела» и с архитекторами.
Картина получилась очень интересная. Сейчас мы к ней вернемся, но сначала небольшое, совсем не лирическое отступление.
В принципе вся эта постмодернистская ризома была в философском смысле очень грамотно решена еще древними китайцами. Есть твердая, устойчивая терминология. Это – Ян. Есть «туманный антропологизм». Это – Инь. Инь и Ян – не антитеза, не бинарная оппозиция. Их системная взаимосвязь прекрасно освещается в классической древнекитайской «Книге перемен». Главный же закон развития жизни – дао, главное свойство которого заключается в том, что его нельзя определить. Не противопоставляются друг другу по принципу первичности и пять китайских первоэлементов (огонь, вода, воздух, металл, дерево), в отличие от четырех индоевропейских. У европейцев же метафизика (Ян) и диалектика (Инь) вечно спорят друг с другом. Кстати сказать, современные китайские учащиеся, даже самые продвинутые, как показывает большой опыт общения с ними, безнадежно равнодушны к метаниям Делеза, Деррида, Эко и т.д.
Итак, о лингвистике, культурологии, регионоведении и архитектуре.
В языке есть системные отношения и отношения полевые. Суффикс – это, так сказать, Ян. А вот «семантика прозрения в метафорах символистов» – Инь. И все же терминологический каркас лингвистики очевиден.
Когда появилась дисциплина «культурология», возникло много сомнений по поводу ее«легитимности». Например, еще в 90-х годах прошлого века профессор Ю.В. Рождественский совсем не безосновательно утверждал, что необходимо говорить о «культуроведении», а не о«культурологии», потому что «логия» подразумевает систематизацию и классификацию, а в культуре этого крайне мало[3]. Да и междисциплинарность здесь явно зашкаливает. На совете по культурологии на одном заседании могли, к примеру, защищаться диссертации «Концепт пути в творчества Н.С. Лескова» и «Народные монгольские музыкальные инструменты: традиции и современность». Ничего «криминального», но, согласитесь, странно. Очень уж широко.
Появление регионоведения не прояснило ситуацию, но привнесло в нее еще больше «сциентизма». Прежде всего подключилась экономика.
Лет пятнадцать назад, например, в обиход плотно вошло понятие «кластер». Чуть ли не треть дипломов и магистерских диссертаций по регионоведению защищалась по «кластерам». Автомобильных в Италии, молочных в Вологодской области и т. д. и т. п. Первый вопрос, который задавался соискателю, был следующий: имеете ли вы экономическое образование? Ответ – нет. Экономисты-рецензенты разводили руками.
В принципе и культурологические диссертации про монгольские музыкальные инструменты и лесковский концепт пути могли быть легко защищены как регионоведческие. Без специального музыкального или филологического образования. Мы сделали в свое время попытку навести хоть какой- то порядок [2, с.5-14], но это слишком обширная область: все разом не охватишь. Да и надо ли? Но об этом ниже.
Работая со студентами и аспирантами МАРХИ, в том числе и бывшими, мы провели следующий эксперимент, или, как сказали бы филологи, полевое исследование. Информантам (около 50 человек) было предложено привести 15-20 архитектурных терминов, которые можно считать ключевыми для их исследований. Подавляющее большинство работ было посвящено градостроительству.
Весь полученный материал можно разделить на две группы.
Первая группа (примерно 30%) представляет собой словосочетания, иногда весьма развернутые, содержащее некую терминологическую доминанту, отсылающую именно к архитектуре:архитектура, архитектурный, градостроительный, город, пространство и т.п. Например, зеленая архитектура, архитектурное зонирование, архитектурная проницаемость, дизайн архитектурной среды, градостроительная емкость, когнитивная архитектура и т.д. Нередко здесь встречаются и вопиющие семантические тавтологии, к примеру: морфология пространственного формообразования, интегрирование объединенных архитектурных зон. Но это – неизбежные «издержки производства».
Подчеркнем: весь этот материал рассматривается нами скорее как «языковое подсознание» информантов, «лингвокультурное дао» их языковых и профессиональных личностей. Ценность их (и их научных руководителей) архитектурного терминотворчества ни в коей мере не ставится под сомнение. Тем более, что мы скорее разделяем древнекитайский подход к «мировому дискурсу», чем современный западно-постмодернистский.
Вторая группа (примерно 70%) языковых единиц не содержит абсолютно никаких доминантных отсылок к архитектуре как таковой. Приведем примеры: стартап, экотуризм, промышленный кластер, город-побратим, технологическая цепочка, геймификация, философия мультикультурализма, гуманистическое планирование, исторический подтекст, теплообмен, территориальное управление, креативная индустрия, конверсия, система расселения, модернизация, перспективы многофункциональности, биотип и т.п. Как видим, здесь и экономика, и экология, и физика, и биология, и история, и философия, и культурология, и геополитика, и много чего еще. Причем информанты, зная, что все эти термины многофункциональны, междисциплинарны, нисколько не сомневаются в том, что они «законно архитектурны». И даже – в первую очередь.
В сущности, наш скромный опрос, как нам кажется, наглядно демонстрирует тот факт, что архитектурная наука, пожалуй, самая «всеотзывчивая», если использовать крылатый «мем» Ф.М. Достоевского. Кстати, в числе прочих зафиксированных в опросе архитектурных терминов встречается и такой: архитектурная меметика. Архитектура – это «пантеон», если угодно – «мусейон» наук.
Несколько, может быть, противореча заявленной теме, мы хотели бы сделать следующий вывод-гипотезу.
Современный архитектурный дискурс лишь на самый поверхностный взгляд является «насквозь» постмодернистским. Это слишком близкая ретроспекция. Архитектура имеет в сотни раз более долгую историю, чем тот самый постмодернистско-деконструктивистско-постструктуралистский комплекс, с которого мы начали.
По сравнению с массой иных наук, возникших в последние десятилетия и неизбежно ставших междисциплинарно-синтетическими, архитектура не столько синтетична, сколько исконно-синкретична. В этом ее сущность, ее, опять же, «дао».
Достаточно взять тексты великих архитекторов от Брунеллески до Ле Корбюзье и Райта и без всякой предвзятости сопоставить их типологически с текстами современных дипломов и диссертаций, защищаемых в МАРХИ, – и все станет ясно про исконную и неизбывную «архитектурную синкретику».
Надеемся, кто-то когда-нибудь возьмет на себя ответственность проделать эту работу.
1. Elistratov, V. Terminy i terminoidy v sovremennom arhitekturnom diskurse / V. Elistratov // Nauka, obrazovanie i eksperimental'noe proektirovanie v MARHI: Tezisy dokladov mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencii professorsko-prepodavatel'skogo sostava, molodyh uchenyh i studentov. - Moskva: MARHI, 2022.- S. 739.
2. Elistratov, V. Regionovedenie: «ischite termin!» / V. Elistratov // Aktual'nye problemy regionovedeniya. Vypusk pervyy. - Moskva: MGU, 2004. - S. 5-14.
3. Rozhdestvenskiy, Yu. Vvedenie v kul'turovedenie / Yu. Rozhdestvenskiy.- Moskva, 1996.